Адиб Халид: «Рассматривать ислам как однородное явление – все равно что считать христианство единым целым»

Адиб Халид - историк, социальный антрополог, занимающийся проблемами Центральной Азии, профессор исторического факультета Карлтон Колледжа (штат Миннесота, США). Адиб Халид работает с русскими, узбекскими и таджикскими источниками, долгое время жил в Узбекистане, Турции, Пакистане, России. В 1998 году выпустил первую книгу о джадидизме «The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia» (University of California Press, 1998).
Как мы объясняем политические мотивы, которые движут мусульманами? Сегодня, когда в новостях так много сообщений о конфликтах, которые происходят в мусульманских обществах и вокруг них, возникает великий соблазн упростить причины этих конфликтов и свести мотивации участников собственно к Исламу. Мотивы мусульман рассматриваются как внутренняя предопределенность, которая не связана с внешним миром, частью которого они являются. В этом случае мы можем смело прийти к выводу, что все мусульмане одинаковы, поскольку их вдохновляют одни и те же священные тексты, и они представляют опасность для «нас». Этой логике следовал Михаил Калишевский в своей статье, опубликованной на этом сайте, и это - аргументы многих «правых» (и не только «правых») комментаторов в Европе и Северной Америке.
Упрощение имеет свои достоинства, но помогает ли оно понять реальность, которая гораздо сложнее, чем представляется подобной системой аргументов? Можно ли понять действия мусульман, исходя только из представлений об их религии? Можно ли по крайним проявлениям судить о сущности глобального сообщества? Я поднимаю некоторые из этих вопросов в моей книге Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia, которая вышла в 2007 году в издательстве University of California Press, и ниже представляю некоторые из моих аргументов.
Об исламе нельзя говорить без учета той бурной публичной дискуссии, которую вызвали события 11 сентября 2001 года. В продаже полно книг об исламе, свою лепту в обсуждение соответствующей темы вносят периодическая печать и электронные средства массовой информации. Все оттенки мнений представлены в новой литературе, которая начинается унылыми академическими фолиантами и заканчивается сенсационными бестселлерами, включая все, что только возможно между этими полюсами. Для многих ответ ясен как день: ислам – религия с изначальным политическим зарядом, провозглашающая деспотизм по отношению к женщинам, нетерпимость и враждебная «Западу» и его ценностям. Более того, эта религия определяет все аспекты жизни верующих в такой степени, которая не характерна ни для христианства, ни для иудаизма. Согласно такой точке зрения, политическое и социальное поведение мусульман можно понимать из чтения исламских текстов, которые не подвержены человеческому вмешательству или толкованию. Самые экстремальные формы радикализма, практикуемые во имя ислама, - действия «Аль-Каеды» или ХАМАСа – есть, таким образом, не что иное, как подлинные и естественные проявления ислама. Подобные высказывания можно услышать со всех сторон политико-культурного спектра: от левых, правых (представляющих как светские, так и религиозные круги), критические настроенных мусульман, индусов-фундаменталистов, друзей Израиля и сербских националистов, - все они безоговорочно разделяют этот взгляд на гомогенный враждебный ислам.
Наоборот, сторонники или защитники ислама, как мусульмане, так и немусульмане, утверждают, что ислам «на самом деле» религия мира, которую боевики монополизировали и извратили «неверной» трактовкой исламского учения. Согласно их тезисам, «настоящий» ислам не имеет ничего общего с распространенным стереотипом и является толерантной, возвышенной и чуждой крайностям религией. В публичном дискурсе, ведущем отсчет с 11 сентября 2001 года, можно разглядеть и некий шаг вперед, который выражается в различении «хорошего» и «умеренного» ислама, с одной стороны, и «плохого» и «радикального», с другой. Появилось мнение, что у ислама два лица - одно толерантное и преисполненное духовности, а другое – нетерпимое и жестокое. Не все мусульмане одинаковы, есть среди них и «хорошие», и «плохие». Такой бинарный подход имеет свой недостаток: слишком уж часто мерилом вменяемости выступает согласие с геополитическими задачами США. Мусульмане, которые одобряют внешнеполитические устремления США, считаются «хорошими» и «толерантными», а тем, кто не одобряет, в таких характеристиках отказано. Саудовскую Аравию на протяжении многих лет обычно представляли «умеренным» исламским государством, тогда как другие, гораздо более секулярные страны исламского мира относились к «экстремистскому» лагерю только потому, что они не ратовали за достижение внешнеполитических целей Соединенных Штатов. Поскольку данное разграничение то и дело выходит на первый план, когда надо вести войну против мусульманского населения, его ценность для понимания ислама весьма сомнительна.
Хвалебные тезисы или концепция «двуликости» грешат тем же существенным недостатком, что и трактовка ислама со стороны его самых суровых критиков: для всех этих взглядов бесспорным является существование «настоящего» ислама, в отношении которого можно делать подобные обобщения. Апологетические концепции и доктрина «двуликости» помещают источник ислама в одно и то же место – в писания, полагая, что политические действия мусульман порождены именно ими.
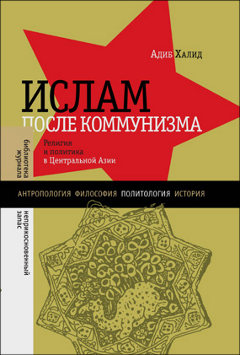
Гарвардский политолог Сэмюэл Хантингтон утверждает, что будущий конфликт на планете возникнет на границах не идеологий или национальных интересов, а «цивилизаций». Он выделяет несколько цивилизаций, описывая их с помощью сущностных культурных характеристик. «Ислам» - одна из этих цивилизаций и, по мысли Хантингтона, она, скорее всего, вступит в конфликт с «Западом». Существование цивилизаций доказывает история, однако истории в книге Хантингтона отведено удивительно мало места. С 11 сентября книга «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» и ее тезисы постоянно выходят на первый план, и, более того, на мягкой обложке американского издания книги цивилизационный конфликт без обиняков подается в виде зеленого знамени ислама, теснящего флаг США (который, очевидно, олицетворяет весь «Запад»). Всем мусульманам, как «хорошим», так и «плохим», в силу их принадлежности к своей цивилизации предопределено действовать определенным образом, т.е. враждебно по отношению к Западу.
Многие рассуждения Хантингтона об исламе продолжают работу Бернарда Льюиса, востоковеда британского происхождения, который много лет преподавал в Принстонском университете, а после 11 сентября поставил на поток эссенциалистский анализ ислама и Ближнего Востока. В 1990 году, через год после завершения «холодной войны», Льюис в заглавной статье «Аtlantic Monthly» пишет, что ближневосточный конфликт является частью более обширного феномена: «Теперь должно быть ясно, что мы столкнулись с моделью и процессом, выходящими далеко за рамки вопросов, политических практик и правительств, которые их придерживаются. Это не что иное, как столкновение цивилизаций – может быть, иррациональная, но, без сомнения, значимая реакция давнего соперника, ополчившегося на наше иудео-христианское наследие, нашу секулярную современность и общемировое значение и того, и другого» ( Lewis B. The Roots of Muslim Rage // Atlantic Monthly. September 1990. P. 60.) Анализируется не политика, а реакция («гнев») на цивилизационное различие. Гнев мусульман корнями уходит в ислам, по мнению Льюиса. «В классическом исламском мировоззрении, к которому начинают возвращаться мусульмане, мир и человечество разделены на две части: обитель ислама, где правит закон и вера мусульман, и все остальное, что известно как обитель неверия или обитель войны, которую мусульмане должны привести к исламу». Для Льюиса не интересы и побуждения, а «традиционное исламское мировоззрение» определяет поведение мусульман в мире. Кроме того он стирает различие между «исламскими радикалами» и основной массой мусульман, полагая, что все мусульмане, вне зависимости от национальности и проживания, испытывают одинаковые побуждения: «Подлинным и недопустимым злом является господство неверных над верующими. Власть верующих над язычниками правильна и естественна… Но власть неверных над истинно верующими нечестива и противоестественна, потому что ведет к упадку религии и морали общества, к попранию или даже отмене Божьего закона. Такая установка может помочь нам понять нынешние волнения в столь несхожих районах, как эфиопская Эритрея, индийский Кашмир, китайский Синьцзян и югославское Косово, - везде мусульманское население находилось под властью немусульманских правительств». Тот факт, что конфликты в Эритрее, Синьцзяне и Косово носили националистическую подоплеку и «мусульманские радикалы» в них не участвовали, для Льюиса ничего не значит. Ислам для него неизменен и неподвластен переменам, которые несут история и общество. «Нашей секулярной современности» Льюис противопоставляет стремление мусульман действовать в соответствии с исламом, будто бы религиозные мотивации напрочь отсутствуют на Западе. Подобные эссенциалистские концепции весьма популярны у нынешних исламских экстремистов, которые уверены в абсолютной несовместимости ислама и Запада. Здесь позиции Усамы бен Ладена и Бернарда Льюиса полностью совпадают.
В эссенциалистской системе суждений не учитывается история. Цивилизации уподобляются бильярдным шарам, которые сталкиваются друг с другом на столе, - они живут и реагируют друг на друга, но при этом каждая остается неделимым целым. Более того, поведение любой цивилизации предопределенно ее природой, т.е. является следствием ее уникальных (и, опять-таки, неизменных) свойств. Эссенциалистская аргументация, таким образом, отворачивается от политического и международного контекста явления, которое стараются проанализировать. Все объяснения политических поступков мусульман (и ответственности за них) надо искать в самом исламе, а более широкий контекст взаимодействия мусульман с Европой и Соединенными Штатами прилежно обходить стороной. Игнорирование взаимосвязи между цивилизациями необходимо для создания положительного образа Запада как кладезя лучших достижений человечества. Запад отождествляется только с благородными понятиями свободы, демократии, прав человека и открытого рынка; прочие «достижения», например, колониализм, рабство, почти полное истребление коренного населения трех континентов, масштабное производство вооружений, Холокост, - никогда не упоминаются. «Запад» есть такой же продукт эссенциализма, как и «ислам», - он тоже автономен и внутренне однороден, но только сущность его сугубо положительная.
Как и все религии, ислам внутренне разнороден. В рамках религиозной традиции люди и группы могут занимать в крайней степени разные и даже противоположные позиции. На протяжении нескольких столетий христиане использовали Библию для обоснования войн с нехристианами, для оправдания гонений на живших среди них евреев; многие американцы защищали рабство, апартеид и джимкроуизм, апеллируя к писаниям. В то же время Библия служила христианам в борьбе против рабства, за социальную справедливость и гражданские права, помогая также проповедовать терпимость. Одни и те же священные тексты питают учение о бедности Христа и доктрину богатства. Эти противоположные концепции осознаются и прямо преподносятся как христианские. Мусульмане тоже могут спорить и спорят между собой, извлекая из авторитетных религиозных источников полярные точки зрения.
Рассматривать «ислам» как однородное явление – это все равно что считать христианство единым целым, не взирая на различия между католиками и православными, протестантами и коптами, а также бесчисленными другими сектами, включая такие маргинальные образования, как мормоны, сайентологи и свидетели Иеговы. Разумеется, по отношению к христианству подобный подход не практикуется, поскольку интуитивно мы понимаем, что ярлык теряет всякое значение, если метить им столь разные группы. Однако эти соображения редко кого останавливают, когда речь заходит об исламе, хотя определение «ислам» охватывает не менее широкий спектр географических, культурных и сектантских образований. Если уж на то пошло, ислам внутренне еще более неоднороден, чем христианство, которое с самого начала развивалось вокруг института церкви. У ислама такого института не было. В исламе нет религиозной иерархии и фигуры человека, наделенного правом выносить окончательный вердикт в отношении веры или религиозной практики. Через тридцать лет после смерти пророка Мухаммеда мусульманское сообщество раскололось из-за вопросов доктрины. С тех пор мусульмане опираются на разносторонние источники авторитета. Авторитетом наделены не церковные наставления, а личности, правомерность суждений которых порождена их знаниями, благочестием, происхождением и репутацией среди современников. Данная черта придает исламу несколько анархический характер: авторитетные мнения (фетвы) одного эксперта или группы могут противостоять столь же авторитетным мнениям, подкрепленным аналогичными текстами; система религиозных практик, которой придерживается одна группа, может провозглашаться неприемлемой для другой группы. В более крайних случаях подобные конфликты суждений могут перерасти в "войну фетв", которая в современном мире ведется на страницах прессы или в киберпространстве. (Если бы на Западе к исламу относились более мягко, то эта разноголосица считалась бы свободным рынком идей!) Подход к исламу как к однородному феномену отрицает фундаментальное развитие его традиции.
Плюрализмом отмечен и основополагающий уровень исламской веры. Главный сектантский водораздел в исламе – между суннитами и шиитами – берет начало в годы зарождения ислама. Обе доктрины возникали параллельно друг другу, и поэтому некорректно трактовать расхождения между ними в терминах "правоверный/еретический". Все мусульмане разделяют определенные базовые идеи (например, единобожие, преданность Пророку и его ученикам, необходимость готовиться к жизни после смерти), но различные течения и секты трактуют эти понятия по-разному. Более того, у каждого из двух основных течений есть множество ответвлений; сунниты и шииты поддерживают многообразные теологические и юридические школы, а многочисленные идейные организации современности одной ногой упираются в учение суннитов, другой – в учение шиитов.
...
Ислам не однороден и в то же время не замкнут в себе, не обособлен. Мусульмане всегда взаимодействовали с соседями. Исламская цивилизация никогда по размеру не совпадала с исламом как религией, представляя собой гибрид, мультикультурное образование, в котором не последние роли играли христиане, иудеи и индусы. И если сегодня мы называем западную традицию «иудео-христианской» (что недооценивает степень, до которой Запад на протяжении долгого времени ассоциировался исключительно с христианством, и полностью отвергает влияние неевропейских евреев), то исламская цивилизация была, по крайней мере, иудео-исламской, хотя, вероятно, ей подошло бы более многосоставное название. Взаимодействие было особенно плотным в последние 200 лет, в течение которых оно принимало различные формы. Понятия прогресса, нации, воли народа, новых способов организации общества и государственной власти, новые средства общения – все это изменило представления мусульман об исламе и о мире, в котором они живут. Точно так же современные исламские политические и религиозные течения существуют в международном геополитическом контексте, где западные державы играют активную роль. Реагируют ли исламские движения на присутствие западных военных, вовлечены ли они в жизнь мусульманского общества или порой активно поддерживаются Западом, - они всегда помнят о Западе. «Что случилось?» - вопрошает Бернард Льюис, имея в виду Ближний Восток, и тут же дает ответ, в котором все объясняется через ислам, но ни слова не сказано о тесном переплетении истории мусульманского мира с Западом. Столь сомнительная трактовка текущих событий взывает к жизни загадочные тексты тысячелетней давности, но игнорирует политический контекст сегодняшнего дня.
Своеобразие классической традиции ислама вряд ли способствует пониманию поведения нынешних мусульман, сознание которых в значительной степени сформировалось под влиянием идей, технологий и моделей социальной организации современности. Отношение мусульман к исламу отражает сегодняшнее отношение к религиозному авторитету, которое предполагает дистанцию между мусульманами и классической традицией. Ключевое понятие при анализе ислама – это современность, т.е. возникновение новых представлений о мире (стремление к определенности и систематизации, неверие в сверхъестественное, растущий авторитет научного знания) и новых форм организации (современное государство и его многочисленные атрибуты), средств связи (наступление эпохи печати и, совсем недавно, электронных средств информации), а также новых форм социализации, - начавшаяся в Европе в первые годы Нового времени и изменившая мир. С хаосом новое время приносит устоявшийся порядок вещей, но у него нет четкой траектории. И здесь понятие современности расходится с понятием модернизации - осовременивания, предполагающего готовую модель исторического преобразования, в рамках которого конкретные экономические реформы («прогресс») приводят к аналогичным социальным и культурным изменениям (секуляризации, росту демократии, равноправию полов и так далее).
Новое время изменило и мусульманский мир. За последнее столетие новые формы власти и познаний заставили иначе оценивать то, сколько верующих относится к исламу. Благодаря появлению печати и массового публичного образования значительное число мусульман получили доступ к текстам ислама, что, в свою очередь, разрушало прежние модели познания и ставило под вопрос авторитет традиционных охранителей ислама. Со временем споры об исламе вернулись к Корану и хадисам. Ученые назвали данный процесс «объективизацией» ислама: ислам выделяется из обычая, традиции, толкования и переосмысляется как самостоятельный объект, появившийся благодаря конкретным оригинальным источникам. До определенной степени ислам пережил «протестантизацию», когда классические толкования ислама нередко порождали новые формулировки.
Объективизация ислама привела к разным результатам. В конце девятнадцатого и начале двадцатого века влиятельное течение, названное мусульманским модернизмом, провозгласило полную совместимость ислама с новым временем. Согласно этой позиции, прогресс был неизбежным и желательным, абсолютно согласуясь с исламом. Для модернистов ислам требовал от верующих движения вперед, или прогресса. Мусульмане-модернисты ратовали за реформу образования и семейной жизни, изменения положения женщин, новые представления о здоровье общества и гигиене и многом другом: по сути, модернисты стремились к осовремениванию ислама и мусульман. Они считали, что ислам сам по себе не слишком крепок, мусульмане позволили ему обрасти чужими наслоениями. Значительную часть вины за это модернисты возлагали на традиционные элиты, в частности на улемов и суфийских шейхов, которые исказили веру. Спустя поколение уже другие группы в обществе, столкнувшись с иными проблемами, но разделяя такие же представления об объективированном исламе, выдвинули совершенно другую систему аргументов.
Модернисты, утверждали они, преуспели только в подражании Западу, приведя ислам на путь разложения. Решение надо искать не в том, чтобы приспособить ислам к диктату нового времени, а в том, чтобы заставить современный мир отвечать требованиям ислама. Говоря иначе, современность надо исламизировать. Мусульманам будет хорошо в этой или в следующей жизни, только если пересоздать современность на подлинных исламских принципах. Назовем это движение исламизмом.
Исламизм – явление современное в том смысле, что оно предполагает объективацию ислама: лишь отделившись от обычая, традиции и истории как таковой, ислам может стать самодостаточным объектом, который, в свою очередь, можно использовать в политической практике. В результате ислам превратился в политическую идеологию, в рамках которой все политические цели и действия проистекали из неких абстрактных понятий, заключенных в «подлинных» письменных источниках ислама. В 1929 году школьный учитель Хасан ал-Банна (1906-49) основал в Египте Общество братьев-мусульман (организация вскоре охватила несколько других арабских стран). Братья-мусульмане сознательно стали современной политической партией, которая предпринимала политические шаги ради завоевания власти и установления исламского закона и государства. Еще одним видным теоретиком политического ислама был Саид Абул Ала Маудуди (1903-79), основавший «Джамаат-и-ислами» (Исламскую партию) на севере Индии в 1941 году. Хотя Маудуди выступал против создания отдельного государства для мусульман Индии (с учетом того, что это государство будет светским и, следовательно, ничем не лучше независимой Индии), он все-таки перебрался в Пакистан, когда тот был основан в 1947 году, и потом из своей штаб-квартиры в Лахоре контролировал политическую партию, которая заявляла о себе во всей Южной Азии, а затем влияла и на южноазиатскую диаспору. Как для ал-Банны, так и для Маудуди политическими задачами были не просто процветание и усиление мусульман (именно так их тогда формулировали большинство модернистов и националистов), а абсолютное изменение человека и общества в соответствии с принципами, почерпнутыми из аутентичных источников ислама.
Три внешне непохожих современных течения нашли место в учениях ал-Банны (и его более знаменитого последователя Саида Кутуба), а также Маудуди. Во-первых, трое лидеров пережили радикальную трансформацию своего понимания религиозного авторитета, аналогичную опыту евангелистов-фундаменталистов в Соединенных Штатах. Для исламистов религиозный авторитет локализуется в текстах, которые они воспринимают как прозрачные вместилища смысла, доступного читателям без помощи толкований. Таким образом, они отказываются от авторитета толковательной традиции, через которую развивался ислам. Во-вторых, исламистская политика является частью гораздо более масштабного поиска культурной аутентичности, которая привлекает множество разных сообществ (религиозных, культурных, этнических, расовых) своим обещанием восстановить чистоту и достоинство в мире, построенном на отношениях колониализма и угнетении других. Исламисты стремятся очистить все разновидности «наслоений» с аутентичной традиции, которую они стараются «воскресить». Наконец, политические цели исламистских движений в значительной мере своими формулировками перекликаются с современными революционными идеологиями, и в особенности с марксизмом-ленинизмом. Во время холодной войны исламисты были яростными антикоммунистами, потому что коммунизм выступал как соперничающая идеология, основанная на универсальных принципах и непримиримая по отношениям ко всем религиям. Подобная установка, однако, не должна закрывать нам глаза на то, что марксизм-ленинизм привлекал исламистов, предлагая модель успешного политического действия. Русская революция по сути была самым успешным восстанием против буржуазного мирового порядка в начале двадцатого века, а установившийся благодаря ей советский режим громогласно возвестил о своих антиколониальных намерениях. Для аль-Банны и Маудуди организационная структура Коммунистической партии была ключом к успеху, и оба выстраивали собственные партии по примеру коммунистической модели. «Джамаат-и-ислами» Маудуди рассматривала себя как партию ленинского типа, т.е. как передовую партию преданных делу революционеров, членство в рядах которой строго контролировалось. Категории члена партии, кандидата на вступление и сторонника, а также молодежное крыло, работающее со студентами, точно повторяли структуру Коммунистической партии. Революция, за которую ратовали исламисты, конечно же, должна была быть исламской революцией.
Оба лидера стремились не просто к свержению существовавших «неисламских» режимов, но и к изменению внутреннего мира индивида. Эта цель тоже была порождением нового времени и присутствует во многих идеологиях современного мира. В других ракурсах исламистская постановка вопроса тоже несла в себе все атрибуты современности. Стремление переделать мир с помощью антиколониальной борьбы, ориентируясь на социальную справедливость, превознося революцию и рассматривая политику как основное место действия, есть стержень современной радикальной политики во всем мире. Приверженность исламистов подобным установкам дает нам ключ к пониманию того, почему их взгляды привлекательны для мусульманского сообщества. Степень этой привлекательности не всегда была большой. В 1940-1960-е годы в исламском мире в основном доминировал национализм светского толка, а исламистские партии находили отклик только у крохотных сообществ. Политическое пространство исламизма расширилось благодаря нескольким взаимосвязанным факторам. Националистическим режимам не удалось выполнить свои обещания (отчасти из-за коррупции, но в большей мере из-за структурных проблем глобального масштаба, не поддающихся их контролю), а в 1967 году поражение, нанесенное Израилем, заставило посмотреть на светский национализм через новую оптику, особенно в арабских странах. Все больше граждан чувствовали потребность в «аутентичном», нравственном ответе на кризис, связанный с Израилем. На самом деле именно конфликт с Израилем (основание которого произошло за счет ущемления прав арабов и вопреки желанию большинства населения Палестины) стимулировал развитие политики в мусульманском мире в последние несколько десятилетий. С 1967 года конфликт с обеих сторон получил религиозную окраску, способствуя резкому росту благосостояния исламистских партий (Не стоит забывать, что и в Израиле война 1967 года изменила контуры политики, потому что религиозные евреи, наконец, осознали свою связь с сионизмом. Религиозно одержимые поселенцы на Западном берегу такие же экстремисты, как и «исламисты», но они пользуются преимуществом общемирового статус-кво. Для многих и многих американцев-христиан поддержка Израиля продиктована религиозными убеждениями.) Итак, можно отметить, что с глобальным поражением левых и распадом Советского Союза исчезли другие альтернативы, в рамках которых можно было бы создать оппозицию по отношению к дискредитированному status quo.
Раз исламизм – порождение нового времени, то таковы и сами исламисты. Ал-Банна и Маудуди были людьми двадцатого века, отчасти формально приобщившись к традиции исламской учености. Ал-Банна и его последователь Кутуб работали школьными учителями; Маудуди происходил из образованной семьи, но не ходил в медресе. К общественной деятельности его привела журналистика, и чуть ли не всю свою жизнь он жил на гонорары за письменные работы. Присутствие врачей и инженеров в любой исламистской партии бросается в глаза. Печать и публичная сфера позволили исламистам обойти традицию исламской учености. Вместе с тем, будучи парвеню, они в общем-то не чувствовали подвижности традиции и заняли более непримиримые позиции, чем традиционные улемы. Поскольку исламисты считали оригинальные тексты открытым вместилищем вечной истины, то само толкование они расценивали как зло.
Спектр современных исламистских движений не ограничивается Братьями-мусульманами и «Джамаат-и-ислами». С совершенно другой траекторией связана Исламская революция в Иране. Ее вождь аятолла Хомейни был не светским интеллектуалом, а высокопоставленным представителем шиитских влиятельных кругов с безупречной репутацией ученого, которой он воспользовался для продвижения своей теории «власти правоведа» (вилайат-и факих). Его концепция поразительно современна и не имеет прецедента в шиитской традиции. На самом деле он в значительной мере обязан работам светских исламистов-интеллектуалов, в частности Джалаля Ал-е Ахмада (1923-69) и Али Шариати (1933-77), которые сочетали исламскую аргументацию с западной критикой современности. Свободно оперируя концепциями Маркса, Сартра и Фанона, Ал-e Ахмад и Шариати обосновывали «исламскую» критику современности, которая стала следствием столетнего противостояния Ирана с Западом и новым временем как таковым. Эта критика целиком и полностью была порождением нового времени. Неудивительно, что Исламская революция породила Исламскую республику вкупе с соответствующей конституцией, разделением властей и принципом репрезентативности избирателей. Еще одну разновидность мусульманской политики представляют исламские движения в Турции или Малайзии.
...
Военизированные группировки, которые сегодня у всех на слуху, - «Аль-Каеда», ХАМАС и множество формирований в Пакистане, а также ИДУ – принадлежат к радикальной ветви, которую мы будем называть джихадизмом. Эти группировки отличаются от исламистов, поскольку у них либо вообще нет политической программы, либо она в зачаточном состоянии – есть только идея завоевания власти и последующего повсеместного установления законов шариата. Джихад они понимают исключительно в военном смысле и в отличие от исламистов стремятся не изменить общество, а только охранять нормы поведения.
Генеалогия джихадизма все же короче, чем у исламизма, - она берет начало не раньше 1980-х, когда происходила финальная драма холодной войны – кровавая бойня по доверенности в Афганистане. Будучи порождением отнюдь не гармоничной самодостаточной цивилизации, джихадистский ислам появился в сумятице современной жизни, причем благодаря самым разным режимам, как мусульманским, так и немусульманским, каждый из которых следовал своим собственным резонам, способствуя развитию специфической смеси милитаризма, религиозного радикализма и социального консерватизма, оказавшейся абсолютно новым явлением в истории мусульманского мира. Поскольку джихадистский ислам провозглашен главным врагом в «войне с терроризмом», а его призрак маячит перед всеми правящими режимами современной Центральной Азии, нам стоит самым тщательным образом изучить его истоки.
За советским вторжением в Афганистан, целью которого якобы была помощь местному революционному режиму в борьбе с контрреволюцией, последовала «гражданская» война, изменившая многое в мире за пределами Афганистана. Действия СССР представляли угрозу для многих сил как глобального, так и регионального масштаба. Для Соединенных Штатов введение советского контингента в Афганистан, случившееся следом за революцией в Иране, грозило пошатнуть американские позиции на Ближнем Востоке и затруднить доступ к региональной нефти. Консервативные монархии арабского мира во главе с Саудовской Аравией чувствовали одинаковую опасность и от Иранской революции, и от советского наступления, равно как и режим военных в Пакистане, у которого давно были непростые отношения с Афганистаном, несмотря на общую веру. Все три силы объединились для поддержки афганского сопротивления, которое преподносилось как джихад против советских безбожников и способствовало укреплению репутации исламских милитаристов в регионе. Борцы сопротивления, моджахеды («те, кто ведет джихад») на Западе превозносились как «борцы за свободу». (Рональд Рейган, приветствуя нескольких лидеров моджахедов в Белом доме, сравнил их с отцами-основателями США.) Моджахеды не были однородной группой, но все они ненавидели социалистов и их весьма прогрессивную социальную программу, в которой особое внимание уделялось правам женщин на образование и работу, перераспределению богатства и бесплатному всеобщему образованию на обязательной основе.
Соединенные Штаты поддерживали исламское противодействие советскому наступлению, исходя из доктринальных принципов, остававшихся нерушимыми на протяжении долгого времени. В холодную войну расхожее мнение на Западе приравнивало ислам к противоядию от коммунизма и именно в качестве такого стратегического актива его холили и лелеяли. Враждебное отношение Советов к религии должно было, как полагали, вызвать неприятие в мусульманских государствах и не дать местным социалистам взять власть в свои руки. Органы власти США старались изо всех сил привлечь внимание к преследованию религии советским режимом. Загвоздка же заключалась в том, что многие мусульмане не видели резких различий между социализмом и исламом. На самом деле, на протяжении всего двадцатого века в мусульманских сообществах бытовало мнение о том, что учение ислама напрямую связано с понятием социальной справедливости и что в природе самого ислама лежит социализм. Вот почему только еще более экстремистские и жесткие версии ислама могут действенно противостоять коммунизму. Задача столкнуть коммунизм с исламом заставила США сблизиться с наиболее консервативными режимами мусульманского мира, недоверие которых к Советам совпало с непримиримой враждебностью к социальным или политическим переменам и которые использовали обращение к исламу как инструмент для разгрома светской оппозиции левого толка у себя дома. (Эта модель, вообще-то, четко прослеживается на примере явных друзей США в мусульманском мире, в особенности Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, а также, в некоторой степени, даже Турции в 1980-е годы.) Цели американцев в войне по доверенности поначалу не отличались размахом: в основном они сводились к тому, чтобы «убить как можно больше коммунистов» и заставить Советы заплатить за неудачи. Однако вскоре афганская война вышла на первый план на фоне решимости рейгановской администрации «использовать все необходимые средства» для победы в холодной войне. Для саудитов, которые финансировали выполнение данной задачи, афганская война стала возможностью отвести исламскую активность от себя и своих покровителей-американцев. Для пакистанских военных, которые пришли к власти в 1977 году, эта война оказалась посланием неба, потому что они получили масштабную военную помощь от США и финансовую помощь от арабских монархий. Спонсируемый американцами джихад против советского атеизма стал последним актом холодной войны.
Применение силы в политических целях, обоснованное исламом, тогда было внове и в целом сводилось к милитаристским отпочкованиям Иранской революции. Афганская же война придала политической борьбе с «неверными» полномасштабную форму действия. На саудовские деньги не только вооружали моджахедов, но и открывали сети школ для сыновей беженцев, наводнивших Пакистан. В этих школах внушали мысль о непреклонной и кровожадной войне с врагами ислама. Война привлекла «энтузиастов» со всего исламского мира, которые стекались в Пешавар, чтобы вести праведную борьбу за ислам. «Аль-Каеда» выросла именно из тех борцов, в числе которых был и некий Усама бен Ладен. Афганская война также милитаризовала исламские движения во всем мусульманском мире, породив те исламские радикальные образования, которые существуют сегодня. После ухода советских войск из Афганистана в 1989 году и последовавшего через два с половиной года распада СССР Соединенные Штаты потеряли интерес к Афганистану, но джихадистский милитаризм (равно как и экономика, основанная на производстве наркотиков, которая поддерживала джихадистов) по-прежнему бурно развивался. Джихадистам не пришлось долго ждать, когда в 1991 году первая американская война в Ираке предоставила объект для их ярости. Махмуд Мамдани вполне обоснованно называет «Аль-Каеду» и события 11 сентября «не доведенным до конца делом холодной войны» (Mamdani, M. Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror. New York, 2004. P. 13).
Разумеется, афганский джихад нельзя анализировать без упоминания о неисламских действующих силах и геополитических мотивациях, которые не имеют никакого отношения к исламу. История вовсе не неуместна при объяснении политического поведения мусульман. По сути, история и есть искомое объяснение. Раз история имеет значение, тогда следует рассмотреть конкретный исторический опыт мусульманских сообществ. Мусульманские сообщества Центральной Азии в двадцатом веке жили совершенно иначе, чем мусульмане в Афганистане, Саудовской Аравии или Пакистане, и при любой попытке понять ислам нужно принимать во внимание этот опыт.
Адиб Халид, профессор исторического факультета Карлтон Колледжа (США), эксперт по Центральной Азии.
